В начале 1930 года Кишинев жил ожиданием приезда Шаляпина. Портрет Шаляпина глядел с круглых афишных тумб, с заборов, со страниц газет.
О Шаляпине говорили взахлеб-даже те, кто смутно представлял себе, каков на самом деле Шаляпин.
- Командор ордена Почетного легиона. Сам французский президент на грудь ему повесил...
- Русский царь его боялся...
- Пел, говорят, он однажды в Берлине, так в зале стекла повылетали...
- Уж больно дороги билеты. Да и те расхватали за какой-нибудь час. Сумасшествие...
- А ведь сын простого сапожника из-под Казани. С высокими особами ручкается...
-- Как бы попасть? Ума не приложу. Разве что самому Шаляпину в ноги броситься...
- Так он тебе и расчувствуется. Ему не такие в ноги бросались - устоял...
- Да и не приедет он вовсе. Нужен ему Кишинев как собаке пятая нога. Париж, Берлин, Рим, Нью-Йорк-это пожалуйста...
- Обязательно приедет...
А Шаляпин все не ехал. И сомневающихся становилось все больше и больше. Билеты, вернее "временные квитанции", переходили из рук в руки, постепенно вырастая в цене, хотя никто толком не знал-приедет ли в самом деле Шаляпин или, поддавшись очередному своему капризу, ринется куда-нибудь еще.
"Дирекция театра "Одеон",- писала газета "Голос Бессарабии",-должна дать ясный и категоричный ответ... К нам поступают запросы из провинции, внесены ли деньги в банк и в какой именно.
История с концертом Шаляпина пока остается достаточно не выясненной. "Наша речь" категорически утверждает, что в данном случае мы имеем дело с аферой".
Газеты, стараясь переплюнуть друг друга, оседлали шаляпинскую тему и не унимались. Фельетонист "Голоса Бессарабии" смаковал будущий гонорар артиста: за один концерт 432 тысячи лей, кроме проездных!
Выходило, впрочем, что слухи о приезде Шаляпина-не газетная утка и не афера дирекции театра "Одеон". Последняя, торжествуя, печатала одно объявление за другим: "Концерт Шаляпина состоится 3 февраля, дирекция просит обменивать временные квитанции на билеты".
В бухарестских газетах фамилия Шаляпина набиралась самым крупным шрифтом: Шаляпин настроен благодушно, ему нравится прием, он будет петь два спектакля-"Фауст" и "Борис Годунов"...
"Миллион двести тысяч лей за два спектакля!"- захлебывались газеты. "Процесс над Шаляпиным"- еще одна сенсация. Импрессарио Фауст Мор возбудил против артиста дело, требуя выплатить ему неустойку в полмиллиона лей за то, что контракт на выступления был заключен не с ним, а с его соперником. Присяжным был известный писатель Виктор Ефтимиу.
Вокруг великого артиста мошкарой жужжали охотники до наживы. "Секвестр на багаж Шаляпина, - читали Ивану Михайловичу. - Фискальные агенты ворвались в отель и предъявили Шаляпину обвинение в сокрытии доходов".
"Величайший артист нашего времени,-восторженно писали рецензенты.- Время не властно над его голосом". Дирекция бухарестской оперы обвинялась в том, что в паре с Шаляпиным пела Маргариту слабая певица Лаура Коханская...
Словом, ажиотаж царил полнейший. Шаляпин оттеснил все другие события. Репортеры и почитатели следовали за артистом, ловя каждое его слово, каждый жест. И Заикин чувствовал себя в некотором роде причастным к славе своего знаменитого земляка.
Встречались они прежде часто - два гиганта, две "волжские сваи", хлебнувшие лиха в молодости. И на Волге, и в Воронеже у Анатолия Леонидовича Дурова, их общего друга, и в Париже.
В памяти всплыла одна из последних встреч, вместе с Куприным. Шаляпин, не сводя восхищенных глаз с Заикина, для чего-то ощупал его бицепсы и вдруг запел:
Э-э-х ты, Ва-а-нь-ка, Рра-зу-дала го-ло-ва,
да...
Разудалая головушка, Ванька,
твоя...
Бархатный голос, казалось, принадлежал не человеку, а диковинному инструменту удивительно теплой человеческой окраски.
- Каков Федор?-улыбнулся Куприн.-Тоже вот волжский богатырь.
И Куприн отошел, любуясь двумя гигантами, которых добротно, на совесть сработала русская земля.
Расставаясь, они долго тузили друг друга, добродушно похохатывая. Весь этот вечер разговор шел про памятные обоим волжские места. Оба исходили в юности берега великой реки от Нижнего почитай до самой Астрахани, перебиваясь с хлеба на квас, и воспоминания об этих днях особенно сблизили их.
Куприн слушал, впитывал, лишь изредка вставляя односложные реплики. Его скуластое монгольское лицо лучилось удовольствием.
- Ты ведь, Саша, тоже вроде бы как наш, казанский татарин,- поддразнивал его Шаляпин.- Шурум-бурум торгуешь? Торгуешь, да?- И заливисто, по-детски смеялся.
- А он, Иван, тоже талант в своем роде,- кивнул Шаляпин в сторону молчавшего Заикина. - Эвон как богата Россия талантами. Сколько их царями да боярами загублено... У нас прежде были в цене те, кто деньгу наживать умел. Пришло ныне время иное, мужицкое.
- Не пришло, а придет,- поправил его Куприн.- Вот в это я верю. Когда гляжу на вас-верю в приход иных времен, - убежденно повторил он.
Думая о встрече с Шаляпиным, перебирая в памяти подробности их знакомства, Иван Михайлович как-то особенно остро ощутил вдруг оторванность от родной земли. Перед ним словно открылась зияющая пустота.
"Знает ли он, что я тут?-беспокойно думал Заикин.- Небось, из газет вычитал. Да нет, поиздержалась слава моя, не пишут обо мне газеты",-уныло вспомнил он.
Газеты и впрямь редко писали о Заикине, а если и писали, то только местные, ходившие не дальше Бухареста. Они захлебывались от восторга лишь тогда, когда случался какой-либо "инцидент". Каждый скандал смаковался ими всегда со всех сторон и с большим знанием дела.
О том, что Шаляпин уже в городе, Иван Михайлович узнал по "живому телеграфу".
- Шаляпин приехал!- горланили мальчишки на улице, будто зная, что Заикин ждет этой вести.
- Слыхал?- просунулась в дверь голова жены.- Приехал!
Панкин долго шагал по комнате, не зная, что предпринять. Под ногами стонали половицы, и звук этот раздражал его.
Решившись, он постучал в дверь, крикнул:
- Костюм подай!
Переодевшись с неожиданным проворством, он оглядел себя в зеркало. Пришлось отойти-зеркало не вмещало погрузневшей, но все еще мощной фигуры.
Заикин вышел на улицу и зашагал по Александровской, ловя на себе любопытные взгляды, отвечая на приветствия знакомых.
На Михайловской у театра "Одеон" было черным-черно. Толпа запрудила улицу. Полицейские каменными изваяниями застыли у входа. Усатый шеф, сыпуча глаза и побагровев от натуги, орал в толпу:
- Господа, прошу расходиться! Шаляпина в театре нет. Можете мне поверить...
Могучий торс Заикина ледоколом врезался в толпу. Толпа раздалась, пропуская атлета.
Узнав Заикина, шеф кивнул ему, как старому знакомому, и, вытащив огромный клетчатый платок, стал вытирать шею.
- Что, жарко, домнуле шеф? - добродушно усмехнулся Заикин.
- Быдло!- беззлобно ругнулся шеф.- Им толкуешь, а они ни с места. Я вам, Иван Михайлович, по чести скажу: нет их здесь - Федора Ивановича. Отдыхают они. В отеле. И до завтра не ведено к ним никого пускать. Даже из газет. В Бухаресте, слышь, какие то неприятности вышли. Не в себе, говорят, Шаляпин,- доверительно закончил шеф.
- Слыхал, читал. Как же - липнут к нему,, как мухи на мед. Деньги-лучшая приманка,-проворчал Заикин.-Был бы я при нем,-понаделал, бы лепешек из этих мух.
Был субботний день. Концерт Шаляпина приходился на понедельник. "Пойду завтра",-решил Иван Михайлович и не спеша зашагал по Александровской к дому, раскланиваясь почти с каждым . встречным. "Как заводной слон",-усмехнувшись, подумал он.
Развернув воскресную газету, Заикин, как, впрочем, и ожидал, нашел в ней интервью с Шаляпиным.
"Пролезли все-таки, хоть и не ведено было пускать",-с восхищением подумал он о пронырливых газетчиках.
На вопрос интервьюера, как проводил он время в Бухаресте, последовало неожиданное: "Отдыхал на скамье подсудимых". О Кишиневе Шаляпин отозвался одобрительно: тихий город, такой же, как тридцать лет назад, когда он впервые побывал здесь; извозчики, живо напомнившие ему родные места. Впервые за много лет ел настоящие щи. Автор заметки взахлеб описывал прогулку Шаляпина по городу, толпу, следовавшую за великим артистом, эпизод у памятника Пушкину: Шаляпин снял шляпу и поклонился опекушинскому изваянию.
"Эх, Федор Иванович, Федор Иванович, не по тебе все эти заграницы", - подумал Заикин, аккуратно oскладывая газету.
...Зал "Одеона" был переполнен. Нет, переполнен, пожалуй, не то слово. Он был битком набит. Дирекций выпустила в продажу бессчетное число входных билетов. И каждый свободный метр пола брался с бою. Люди сидели и стояли, стиснутые со всех сторон.
Пробиться к театру тоже было подвигом. Плотная толпа запрудила улицу. Усиленным нарядам полиции и жандармерии никак не удавалось оттеснить от входа жаждущих попасть на концерт.
Потеряв терпение и надорвав голос, жандармский капитан отдал короткий приказ. И его подначальные, примкнув штыки, решительно пошли на толпу, все напиравшую и напиравшую.
Толпа чуть подалась назад. Открылся небольшой пятачок перед входом. Но теперь уже люди с билетами не могли пробраться сквозь спресованную массу тел. "Пропустите же! Да пропустите. Мы опаздываем}"- надрывались счастливые обладатели билетов.
Люди злорадно посмеивались: "Ступайте, сделайте милость. Кто вас держит!"
- А может, уступите билетик? А то шубу порвете.
- Ступайте в обход, по крышам! - хихикали шутники.
Заикин не умещался в отведенном ему узком кресле. Это вызвало оживление. Выручил подоспевший капельдинер - принес стул.
- А выдержит?-недоверчиво спросил Заикин.
- Можете не сомневаться, сам выбирал,- заверил его капельдинер.- Как раз на вашу комплекцию. Для грузных людей держим...
...Шаляпин вышел стремительно, словно наступая на кого-то невидимого. И резко остановился у черного зеркала рояля, положив на него большую, крепкую, вовсе не артистическую, а рабочую руку, руку грузчика, молотобойца.
Зал застонал. Занкин подался вперед. А время, казалось, сделало в это мгновение рывок назад, в молодость.
На сцене стоял некоронованный владыка, гордо откинув голову. Время обострило черты шаляпинского лица. Но все-таки он был все такой же, каким впервые сфотографировала его память два десятилетия назад.
Шаляпин поднял руку, и зал умолк-мгновенно, словно пораженный внезапной немотой.
Все тотчас отодвинулось куда-то. Даже звуки рояля утонули в нервной, наэлектризованной тишине. Над всем властвовал голос - трубный и бархатистый, ликующе зовущий и искушающе нежный:
Эй ты, ноченька,
Ночка темная,
Ночь осенняя...
Нет, Иван Заикин, мужицкая кость, не был сентиментален. Но тут у него - болью неведомой, горькой и сладкой в одно и то же время - сдавило грудь. К горлу подкатил удушливый ком.
Он скосил глаза. Соседка, дебелая дама лет сорока, прижимала к глазам платок. Седой мужчина, дотоле державшийся прямо и строго, уронил голову на руки...
А что в ней, в этой старой русской песне? Кого оплакивает она? Сиротскую ли долю, или осень человеческую-закатную пору жизни, пору увядания?
Песня будила воспоминания о Родине, о тоскливых деревенских ночах, заунывных ночах русской осели, исполненных грусти и полудикого очарования. То ли дождь глухо барабанит по крыше, то ли с едва слышным шуршанием опадают листья с берез, и это шуршание, усиленное гулкой небесной синью, особой чистотой и прозрачностью воздуха, с непонятною силой отдается в ушах...
С кем-то я ноченьку,
С кем осеннюю,
С кем тоскливую
Ох, коротать буду...
Слова были бесхитростны. Казалось, нет в них ничего такого, отчего может так защемить сердце.
Заикин смотрел на певца и не понимал: туманная ли пелена застила ему глаза или сам Шаляпин, минуту назад казавшийся богатырем, стал, ровно, меньше. Теперь он был мучительно похож на кого-то очень знакомого, чей образ смутно хранился в самых дальних закоулках памяти.
И нежданно Иван Михайлович вспомнил. Вспомнил талызинского певца Митрошку - неказистого мужичонку со свалявшейся бородой и отчего-то всегда красными глазами.
Митрошка был деревенским "артистом". У него до старости сохранился голос редкой задушевности и чистоты. Он был непременным участником всех нехитрых событий деревенской жизни: свадеб, крестин, похорон. Неказистый, неряшливый, он преображался,. когда затягивал песню. Не было у него ни семьи, ни двора, но сердобольные бабы пеклись о нем, словно о родном человеке.
Давным-давно, когда Митрошка был еще молод, заезжал в Талызино какой-то барин. Послушал, подивился и обещал похлопотать о нем. Да так и сгинул.
...Шаляпин пел, а Иван Михайлович вспоминал Митрошкины песни, хватавшие за душу, очищавшие и возвышавшие закаменевших в нужде и горе талызинскнх мужиков.
Шаляпин пел серенаду Мефистофеля. И на сцену мгновенно явился сам дьявол во плоти и крови, а от злобного хохота холодом подирало по коже. Он был то свирепым варяжским гостем, то благородным неудачником Дон Кихотом. За бражником и удальцом князем Галицким неожиданно открывался мятущийся царь Борис или величавый Пимен...
- "Дубинушку"! - неожиданно раздался чей-то выкрик, когда концерт подходил к концу.
- "Дубинушку"! - с воодушевлением поддержал зал.
Шаляпин стоял молча, скрестив на груди руки, словно прислушиваясь к чему-то. Скупая понимающая усмешка тронула его губы. Он обернулся к аккомпаниатору и кивнул ему.
...Голос певца постепенно креп, наливаясь силой. Казалось, он вот-вот прорвет своды зала, с грохотом обрушив их на головы людей.
И настала пора,
И поднялся народ...
- набатом звучало в зале...
Разогнул он согбенную спину...
Заикину стало страшно. Вот сейчас, думалось, рухнут своды от этого страшного напряжения, клокотавшего в горле певца, от этой нечеловеческой ярости, вибрировавшей в воздухе и насытившей его электричеством невиданной силы.
...И стряхнув с плеч долой
Тяжкий гнет вековой,
На врагов своих поднял
дубину!
- торжествующе загремело, загрохотало в зале органом невиданной мощи. И тотчас же отдельные голоса, пока еще робко, неуверенно, но постепенно все стройнее, все воодушевленнее подхватили припев:
Эй, дубинушка,
ухнем!..
Заикин видел, как съежились в своих креслах сановные посетители первого ряда, как пожал плечами шеф сигуранцы, как побагровел примарь...
А зал расправлял плечи. Зал стал бунтарем, быть может, на какие-то минуты, правда. Зал ждал мгновения, когда можно будет подхватить припев, и это чувствовалось по тому, как нетерпеливо подались вперед люди.
И Заикин почувствовал то, что доселе было ему непонятно: могучую силу искусства, призывную, торжествующую, зовущую вперед силу, перед которой меркла любая другая...
Он вытащил платок и приложил его ко лбу, на котором обильно выступила испарина. А зал грохотал:
восторженные крики, рукоплескания накатывали прибоем, сливаясь в оглушительный рев.
Иван Михайлович кричал вместе со всеми, топал ногами, отбил себе ладони, безраздельно захваченный порывом людского восторга, преклонения перед гением искусства.
Откуда-то внесли корзины с живыми цветами, казавшимися в этот февральский день особенно хрупкими, и Шаляпин, широко улыбаясь, благодарил и .жал руки онемевшим от благоговения дарительницам.
Заикин сорвался с места и, волоча затекшую ногу, поспешил за кулисы.
В тесных, плохо освещенных переходах толпились люди. Они блокировали уборную артиста, не обращая внимания на упрашивания служителей.
- Идет, идет! - послышалось в дальнем конце, у выхода на сцену.
Шаляпин, оживленный, улыбающийся, шел по коридору, окруженный тесной толпой почитателей, возвышаясь над всеми. Рядом с ним семенил директор театра и вышагивал желчный примарь.
Завидев массивную фигуру Заикина, Федор Иванович раздвинул руками людей, его окружавших, и подошел к нему.
- Ну, здравствуй, Иван Михайлов, вот и свиделись, наконец. - Заключив его в объятия, Шаляпин трижды, по-русски, расцеловался с ним.
От волнения Заикин пробормотал что-то несвязное, что должно было означать, что и он рад этой встрече. А Шаляпин, повернувшись спиной к двери уборной, рокотал:
- Сердечно тронут, господа, горячим приемом. Я не был здесь более тридцати лет и сейчас с наслаждением, таким же, как и в первый раз, пел кишиневцам. Тогда я пережил здесь немало радостных минут,. и сегодняшний мой концерт оживил их в памяти.
Федор Иванович поклонился, и люди в коридоре захлопали.
- Прошу меня извинить,- и Шаляпин показал на горло.- Устал, трудно говорить. Надеюсь поутру увидеться с вами.
Наклонившись, Шаляпин скользнул в уборную. Дверь за ним захлопнулась.
Заикин похолодел. "Неужто забыл про меня?" Но" тут дверь приоткрылась, и чей-то палец осторожно поманил его. Иван Михайлович оглянулся - коридор был пуст - шагнул в дверь.
- Садись, Иван Михайлов, сейчас я буду готов,- деловым тоном произнес Федор Иванович.- Ты ведь вроде свояка мне. Помню, газеты писали: "Заикин - это Шаляпин русских мускулов..." Твоих-то" мускулов мне ох как недостает.
Лицо певца, поразившее его недавно молодостью, удивительно живой гаммой чувств, теперь резко осунулось. Сеть морщин заплела его, а у губ легли глубокие складки, которых, как показалось, прежде и вовсе не было.
Словно угадав его мысли, Шаляпин сказал со вздохом.
- Тяжка, брат, десница грозного судии. Старею. И пою плохо. Молчи, не перебивай. Мне каждый концерт, каждая спетая партия года жизни стоят. Да, брат, чувствую: износился вовсе.
"Неужто на комплимент напрашивается?" - подумал Заикин, но, внимательно взглянув на того, кто oеще несколько минут назад смеялся и шутил, остро ощутил правду шаляпинских слов. Он понял, что п эта непринужденность на сцене, и эта живость в общении с почитателями - результат предельной мобилизованности, строжайшей подтянутости артиста. Теперь Федор Иванович перестал играть: Шаляпин - певец, гений перевоплощения-стал просто человеком, бесконечно уставшим от устремленных на него глаз.
Уловив на себе внимательный, оценивающий взгляд Заикина, Федор Иванович усмехнулся:
- Думаешь, небось, перегнул я? Кокетничаю?- я Шаляпин шутя погрозил пальцем.- Не отнекивайся. Я, брат, мысли читаю на расстоянии, да. Я психолог, как и надлежит быть артисту. В душу тотчас залезаю и человека оцениваю так, как близкие его не знают.
Горькая усмешка не сходила с его губ. Шаляпин тяжело поднялся, последний раз оглядел себя в зеркале, нахлобучил шляпу и коротко бросил:
- Пошли, Иван Михайлов, поужинаем. В ресторане и договорим.
- Может, извозчика возьмем,- предложил Шаляпин, когда они вышли из театрального подъезда на слабо освещенную улицу.- А то темень у вас тут кромешная, словно в деревне.
- Деревня и есть,- буркнул Заикин.- Особливо зимой: чуть смеркнется-ни души на улице. Фонарей мало, а внизу, где я живу, и вовсе нет. По собачьему бреху ходим.
- Это как же? - полюбопытствовал Шаляпин.
- А так. Каждый на голос своей собаки правит- вот и весь ориентир.
Шаляпин раскатисто захохотал. Улыбнулся и Замкни.
- Градоправители наши денег на освещение жалеют, сказывают: казна пуста. Будет пуста, ежели вор на воре сидит, вором погоняет.
- А все-таки по душе мне Кишинев,- протянул Шаляпин.-Что там ни говори, а город российский. На улицах русский говор, извозчики опять же... Так что, возьмем извозчика?
- Да зачем тут извозчик, когда все рядом,- возразил Иван Михайлович.
Они неторопливо шли по скупо освещенной Александровской. Редкие прохожие почтительно уступали им дорогу и долго глядели вслед.
- Почти тридцать лет назад был я здесь. Гляжу - мало что изменилось. Все те же дома, кажется, и люди те же,- задумчиво говорил Шаляпин.- Недавно вот встретился в Вене с одним актером. Европейская знаменитость-Сандро Моисеи. Слышал, небось?
Иван Михайлович отрицательно помотал головой.
- А что, этот Сандро здесь бывал?
- Да нет, здесь ему бывать, по-моему, не доводилось. Он все в больших столицах выступает. Просто разговорились мы об искусстве, и я вспомнил Кишинев...
Они вошли в вестибюль ресторана. После уличного полумрака свет резал глаза. Было шумно, накурено. Из зала доносились звуки румынского оркестра. Скрипки жаловались, и от жалобы этой у Заикина снова больно защемило сердце.
- Славно как играют,- кивнул в сторону зала Шаляпин.
К ним кинулись метрдотель, гардеробщик. Спустя минуту, словно вызванные по невидимому телеграфу, прибежали управляющий ресторана и какие-то служители.
- Ишь, чаевыми запахло,- буркнул Заикин. С Шаляпина почтительно сняли шубу, и гардеробщик, держа ее на вытянутых руках, понес куда-то,
казалось, не дыша.
- Прикажете отдельный кабинет? - прыгал вокруг них управляющий и, не дожидаясь ответа, петушком ускакал куда-то.
Они вошли в зал, и головы всех сидящих как по команде повернулись к ним. Шум смолк точно по мановению волшебной палочки. Даже оркестр перестал играть. На мгновение воцарилась тишина. Ее прервали хлопки и крики музыкантов.
- Шаляпину-слава!
- Урра, Федор Иванычу!
Публика подхватила. И в зале тотчас начался такой гвалт, что Шаляпин невольно поморщился.
Снова петушком подскакал управляющий и повел их куда-то через весь зал. Они шли, сопровождаемые восторженными криками и аплодисментами. Оркестр неожиданно заиграл "Вниз по матушке по Волге".
Шаляпин улыбнулся, поднял вверх руки, сплетенные в пожатьи.
- Благодарю вас, господа!-неожиданно воскликнул он.- От всего сердца!
Густой шаляпинский бас покрыл неистовый шум, и на мгновение снова наступила тишина. А потом крики возобновились с утроенной силой. Шаляпин кланялся направо и налево, пока за ними не захлопнулась дверь кабинета.
- Осчастливлены вашим посещением, Федор Иваныч,-восторженно бормотал управляющий, прижимая руку к сердцу. - Это, можно сказать, величайшая честь для нас. Почту за счастье лично служить вам.
- Фу,- тяжело вздохнул Шаляпин, плюхнувшись в кресло.- И приятно и, как бы это выразиться, хлопотно, что ли. Все пальцами тычут...
- Ну, что будем пить-есть? Выбирай, Иван Михайлов, ты сегодня гость мой. А я ведь пить бросил. "Врачи грозят бедой!"-пропел он и засмеялся. Видно было, что к нему вернулось хорошее расположение духа.
Управляющий и метрдотель склонились над, ними вопросительными знаками. Потом оба бесшумно исчезли, чтобы через минуту так же бесшумно явиться с подносами, заставленными посудой.
- Так вот, я не досказал тебе, о чем мы толковали с Сандро Моисеи. Я сказал ему, что Кишинев навсегда останется в моей памяти. И вот почему: здесь именно сложилось мое, если можно так выразиться, артистическое миросозерцание.
В ту пору, когда я в первый раз приехал в Кишинев, моя певческая карьера помаленьку подвигалась к известности. Вечером в местном театре давали "Паяцев". Выступала какая-то заезжая труппа, довольно плохонькая, сборная. Я согласился спеть партию Тонио. В паре со мной пел тенор, помнится, в летах. Канио он был очень средний, но техничный и музыкальный.
Наступил его черед петь знаменитую арию... Эту, знаешь: "Смейся, паяц..." И вот, когда он заканчивал ее, в горле у него заклокотало, плечи затряслись. И. певец зарыдал... А публика начала... хохотать.
Я стоял за кулисами, дожидаясь своего выхода. Смотрю, шатающейся походкой через сцену бредет тенор. Слезы размыли дорожки на его густо загримированном лице. Зрелище, доложу, трогательное и жалкое вместе. Он продолжал рыдать, потрясенный ролью, просто не заметив или не обратив внимания на хохот публики.
И тут с моих глаз словно бы упала повязка. В тот миг я сразу охватил истинную сущность нашего искусства. Этот глубоко и искренне потрясенный артист пожал хохот вместо сочувствия. Почему? Потому что он проливал настоящие слезы, слезы певца. Между тем это должны быть слезы Канио. Слезы того века, к которому относится Канио. А певец вовсе не должен плакать над своим чувством.
Я вышел из этого самого кишиневского театра словно бы обновленным.
Федор Иванович откинулся в своем кресле и замолчал. Торопливо отхлебнул из стакана чай, забеленный молоком, и, помедлив немного, снова заговорил:
- Вот об этом случае рассказывал я Моисеи в номере венского отеля "Бристоль". Этим мне памятен Кишинев. После того я никогда не плакал, не страдал, не смеялся, не угрожал как Шаляпин, а только как тот герой, которого я изображал. Мы, артисты, должны держать в узде свои собственные чувства, чтобы они не захлестнули фигуру, которую играем. В эти минуты мы становимся как бы рядом с собой...
Заикин слушал молча, не прикасаясь к еде. Федор Иванович очнулся, искоса глянул на него.
- Заговорил я тебя, Иван Михайлов. Неужто интересно?
- Интересно. Я, конечно, не артист, но нечто подобное в жизни раз пережил. В Самаре было. Алексей Максимович посоветовал мне тогда разбойника Чуркина в цирке изобразить. Как он от царевых приспешников удирает, цепи рвет и железную клетку рушит. Стал я, значит, действо сие изображать. Чувствую: вхожу в роль. Охота мне по-всамделишному, понимаешь, жандармские рыла крушить, словно я и есть разбойник Чуркин... К полицмейстеру тогда вызывали: кто-де разрешил противу власти показывать, революционную агитацию разводить. Насилу отговорился. Мне эти полицмейстеры немало крови перепортили...
Шаляпин задумчиво помешивал ложечкой остывший чай.
Он помолчал, потом с горечью проговорил:
- Да, брат, отрезанные мы с тобой ломти. Худо это, ох, как худо. Написал я Горькому эзоповым языком, что тоскую по родной земле. А прямо просить- какая-то дурацкая гордость не позволяет.
Иван Михайлович шумно вздохнул:
- До чего ж охота родную Волгу поглядеть! Хоть одним глазком. Просторы заволжские, берега, где бечевой хаживал. Пропадаю я тут с тоски, Федор Иванович.
Барабаня пальцами по столу, видимо, волнуясь, Шаляпин убежденно произнес:
- Проситься надо назад, Иван Михайлов. Меня вот с Парижем слишком много связывает: дом, семья, дети. А ты что застрял тут один, как перст?
- Сказать по правде, все думаю, что поздновато мне сниматься с места. Стар стал, отяжелел. А потом,- Заикин покосился на дверь,-думаю, что не вечно быть Бессарабии под румынской пятой. Верю:
вернется она под руку России.
- Быть по сему,-усмехнулся Федор Иванович.- А я все-таки буду проситься назад. Как блудный сын. Без родины искусство чахнет.
Оба тяжело поднялись и, провожаемые ресторанной свитой, пошли к выходу.
У выхода Шаляпин обнял Заикина.
- Прощай, Иван Михайлов, не знаю, даст ли бог свидеться еще,- грустно произнес Шаляпин.
Занкин молча поклонился ему в пояс. Оркестр играл что-то печальное. Так же, как давеча, пели скрипки, заставляя сердце сжиматься от неведомой боли.
Предыдущая глава | Следующая глава
На главную страницу
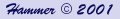
Использование любых материалов с этого сайта - только с моего письменного разрешения.