Захолустный городок Мурмелон невдалеке от Парижа быстро завоевал репутацию международной авиационной столицы. Здесь обосновался Анри Фарман. Здесь он открыл первую во Франции школу пилотов и самолетостроительный завод.
Школа была первой не только во Франции, но и в мире. Вот почему в "Этамп" потекли толпы паломников - энтузиастов авиации из разных стран.
Предприимчивый Анри Фарман - один из пионеров авиации, даровитый конструктор и мужественный человек - довольно быстро смекнул, что слава, завоеванная в воздухе, может стать источником наживы на земле. Его школа носила поэтому чисто коммерческий характер. И так как размер платы за обучение был прямо пропорционален времени пребывания в фармановских классах, хозяин заведения был совсем не заинтересован в быстром выпуске пилотов.
Заикин приехал в Мурмелон на следующий день. Как и предсказывал Алчевский, провожатого не надо было брать: земляки тотчас опознали его - люди в черкесках заезжали в Мурмелон не часто.
Здесь было много русских - Ульянин, Мациевич, Габер-Влынский, Костин, Хиони и другие - военные и цивильные, командированные за счет казны и приехавшие на свой страх и риск.
Если Заикин ни с кем из них лично не был знаком, то его знали все. Спорт и авиация пока еще состояли в самом ближайшем родстве, но уже военные специалисты самых крупных держав пророчили большое будущее неказистым летающим сооружениям из проволоки и дерева.
Соотечественники плотной толпой обступили его. Посыпались расспросы. Заикин отвечал невпопад.. Глаза его блуждали, переходя с предмета на предмет.
Все здесь было ново и необычно. Огромное ровное поле избороздили колеса аэропланов. И потом, ему никогда еще не доводилось видеть столько летательных аппаратов. Казалось, он попал в какой-то фантастический мир, населенный крылатыми драконами.
Он все ждал, что вот-вот взревут моторы и в небо взмоют аэропланы. Но все было тихо, безмятежно' тихо, словно здесь был не авиационный центр, а мирная захолустная деревенька.
- Чего же это не летают? - не выдержал он. Его собеседники усмехнулись.
- Погода ветреная. Нельзя, - односложно ответил Мациевич.
- Нешто это ветер? - искренне удивился Заикин. - Подувает еле-еле. Таким ветром и муху не сдует, а не то что аэроплан.
- Эх, Иван Михайлович, больно ты еще прост,- положил ему руку на плечо Ульянин. - Эти аппараты' еще только из пеленок вылупились. Они слабого дуновения боятся. Вон, погляди-ка на флаг. Коли обвиснет он совсем, тогда и летать будут.
Заикин пожал плечами.
- Так что ж, милые, сидите вы, значит, на французском солнышке и загораете? Тишь да гладь - божья благодать, а когда ж летать?
- Сидим, загораем. Это верно, - раздалось сразу несколько голосов.
- Сидим загораем, свои денежки проедаем, - подхватил, усмехаясь, Заикин.
- Кто свои, а кто казенные.
- Небось, и за безветрие платите? Земляки развеселились.
- А как же. Исправно платим.
- Это вроде штрафа за божий недосмотр, - усмехнулся в густые усы Мациевич.
- Нас, русских, тут вообще не жалуют, - хмуро сказал Костин. - Перво-наперво летают французы;. а мы вроде пасынков.
- Это они за Наполеона, за двенадцатый год, - пошутил Заикин. - Тогда мы вошли в Париж победителями, а таперича - просителями.
- Ишь, каков: за словом в карман не лезет, - одобрительно произнес Ульянин.
- Чего-чего, а слов у меня хватит. Было бы столько франков, - Заикин красноречиво похлопал по пустым карманам шаровар.
Заикин был принят в семью русских авиаторов, как свой. Все гурьбой отправились отмечать его приезд в мурмелонский кабачок "Канар", славившийся своими винами и рагу из утки.
Вечером, когда компания была уже навеселе, Заикин вдруг спохватился:
- Братцы, а как же я устроюсь? Мне же надо было благословение Фармана получить и насчет аэроплана с ним договориться.
Мациевич небрежно махнул рукой.
-Э, Иван Михайлович, пустое. Успеешь. И потом, шеф сегодня был, говорят, не в духе. А когда он не в духе, к нему лучше не соваться. Ежели у нас ветер- это еще ничего. А вот если шеф не в духе - это все равно что буря: и полеты отменяются, и контора закрывается. У меня в комнате есть свободная кровать. Переспишь, а завтра - будет день, будет и пища.
Наутро в "Этамп" прикатил черный лимузин Карузо. Алчевский торжественно нес какой-то объемистый сверток, а Карузо шутливо выпевал губами марш.
- Вот, Иван Михайлович, подарок тебе от почитателей - меня и Энрико. Придумал это он, а осуществили вместе.
Заикин с любопытством развернул сверток. На свет появились черная кожаная тужурка, авиаторский шлем и комбинезон.
- Ну зачем же это вы, - растроганно протянул атлет. - Словно я вовсе нищий.
- Не примешь - обидишь и меня, и Энрико.
- Си, си, синьор Заикин, каро Ванья, - торопливо выговорил Карузо, будто поняв, о чем идет речь.
- Ну вот, видишь, и он тоже за меня, - со смехом подхватил Алчевский. - Когда я рассказал Энрико про твои полушубки, которые ты раздаривал саратовской голытьбе, он был очень растроган и все время повторял: какой широкий, какой великодушный человек. Я его очень насмешил, рассказав о том, что на полушубках стояло клеймо "Иван Заикин". "Неужели у вас так пьют, что продают с себя даже одежду? - удивлялся Энрико. - Непостижимый народ!"
- Ежели могли б, то и себя пропили бы по частям, - с горечью сказал Заикин.
- Не от сытого брюха хлещут - горе свое топят.
- И тогда он, - закончил Алчевский, кивнув головой в сторону молчавшего Карузо, - предложил:
"Давай мы подарим ему авиационный полушубок". Энрико, видишь ли, думал, что полушубок это род кожаной тужурки. Я с трудом объяснил ему, что это такое, и даже повел его в костюмерную, но там, разумеется, полушубка не оказалось.
Заикин взволнованно потряс руку Карузо. Больше всего растрогал его не сам подарок, а удивительная душевность и отзывчивость прославленного итальянского певца. Карузо что-то быстро произнес по-французски.
- Он говорит, - смеясь, перевел Алчевский, -что это память о знакомстве, о нем, и если бы он мог, то непременно поставил бы клеймо со своим именем. И не только для того, чтобы ты, не дай бог, не пропил подарок, - он уверен, что этого не случится, а главным образом потому, что его имя кое-что да стоит...
Карузо, следивший за своим добровольным переводчиком, подождал, пока тот кончит, и затем снова затараторил.
- А еще он просит сказать тебе, что будет горд, если эта тужурка вместе с ее хозяином установят парочку мировых рекордов.
Глаза итальянца смеялись. Заикин с добродушной усмешкой сказал:
- Передай ему, что все его наказы исполню в точности. И в небе, и на цирковой арене. Об Иване Заикине еще будут говорить.
- Ну, а как твои дела, Иван Михайлович? -поинтересовался Алчевский. - Говорил ты уже с Фарманом?
- Не сподобился.
- Тогда давай воспользуемся нашим пребыванием здесь и отправимся к нему сообща. Если он узнает, что за тебя ходатайствует сам Карузо, отказа не будет.
Снова черный лимузин повез их, фыркая и стреляя мотором, по мощенной камнем дороге. Серая пыль стлалась за автомобилем, встречные крестьяне равнодушно жались к краю дороги: они успели привыкнуть к аэропланам и вид автомобиля не вызывал у них любопытства.
Анри Фарман принял их в своей довольно скромно обставленной конторке, примыкавшей к низкому заводскому корпусу. Он был в потрепанном костюме и изрядно засаленной кепчонке, глубоко надвинутой на лоб, и потому никак не походил на хозяина. Узнав, что перед ним знаменитый Карузо, король певцов, он рассыпался в комплиментах:
- Вы осчастливили меня своим приездом, мсье Карузо. Для нашего завода, для нашей школы это гордость, - черные живые глаза Фармана излучали удовольствие. - Позвольте показать вам производство.
Карузо представил конструктору Алчевского и Заикина, добавив, что знаменитый борец хотел бы приобрести аэроплан и войти в число тех шестидесяти крылатых, которые имеют счастье быть его, Фармана, учениками.
- О, ваша просьба для меня закон. - И Фарман поочередно потряс руку Алчевскому и Заикину. - Я сейчас же распоряжусь, чтобы вам оформили заказ и зачислили в мою школу. Быть воспитателем такого атлета для нас большая честь, - добавил он любезно. - Но с сожалением должен предупредить, что раньше чем через два месяца выполнить ваш заказ мы не сможем.
- Скажите ему, - попросил Заикин, - на то его и божья воля, а я согласен. Куда денешься, коль в невестах девица. Уж если меня авиация обкрутила, я ее согласен ждать, сколь нужно.
Фарман отправился отдавать распоряжения, Алчевский и Карузо тотчас накинулись на Заикина с поздравлениями. Они жали ему руки, хлопали по спине, радуясь, как дети, а восторженный и темпераментный итальянец, привстав на цыпочки, чмокнул атлета в щеку, точно младенца.
Осмотрев завод, они отвезли Заикина в "Этамп". Он порядком устал от впечатлений первых дней, от множества волнений и переживаний - столь частых переходов от надежды к отчаянию ему еще не довелось испытать. Не раздеваясь, Заикин бросился на кровать и мгновенно уснул.
Потянулись томительные дни занятий. Для Заикина они были томительными в полном смысле этого слова. Единственный инструктор школы Бовье, которого в глаза все почтительно называла профессором, а за глаза хапугой, предпочитал заниматься со своими учениками "словесностью" - теорией полета, устройством мотора и аэроплана. Из русской колонии объяснения Бовье были доступны только офицерам. "Простолюдины" - механик Костин, борец Заикин, техник Хиони, тоже, кстати, одессит, как и Ефимов,- французского языка не знали и откровенно дремали на занятиях. Зато когда в "Этамп" приезжал Ефимов, давно летавщий самостоятельно и уже пустившийся в коммерческие полеты (надо было отрабатывать долг Ксидиасу), каждый тянул его к себе. Ефимов был признанным и авторитетным учителем для всей русской колонии. Даже офицеры, понаторевшие во французском языке, предпочитали брать уроки у него, а не у велеречивого Бовье.
Иногда в школе появлялся сам шеф - Анри Фарман в неизменной засаленной кепчонке. Если он бывал в хорошем расположении, что случалось нечасто, то сам садился в пилотское лукошко, и тогда пять-шесть учеников получали уроки практических полетов, стоившие многодневной "словесности" Бовье. Шеф был резок, не терпел возражений, но зато смел, искусен и дотошен. Он не отпускал учлета, пока не убеждался, что тот сполна и до тонкостей усвоил его урок.
Фарман был высокого мнения о русских авиаторах, особенно о Ефимове. "Этот Ефимов талантлив, как я,- любил говаривать он.- Если бы он начинал одновременно со мной и Блерио, я не знаю, кто первым перелетел бы Ламанш. Во всяком случае, половина рекордов была бы за ним. У него светлая голова и руки артиста".
Первое время Заикин ходил на "словесность". Но потом махнул рукой и бросил.
- Доне муа манже, мерси боку да еще кошон - вот и весь мой бонтон. Чего мне сидеть на этих занятиях, коли я во французском, как сазан в библии,- объяснял он Ульянину. - Ты, Сергей Алексеевич, сделай милость, скажи профессору, чтоб не обижался. А я лучше около механиков да аппаратов покручусь - больше пользы будет.
Все свободное время Заикин проводил на летном поле. Там шла подготовка к показательным полетам.
Фарман рассчитывал привлечь к "Этампу" внимание общественности, а заодно приработать - входной билет стоил десять франков.
Механики деловито выкатывали аппараты из ангаров - словно лошадей выводили на прогулку. Их гортанные выкрики сливались с треском моторов:
"фарманы" казались миниатюрными рядом с "вуазеном": так выглядит, наверно, легкая прогулочная коляска рядом с грузным фиакром.
Заикин вертелся то подле одного, то подле другого аэроплана. Он внимательно приглядывался к тому, как запускается мотор, как опробуются рычаги управления, жестами просил повторить какое-нибудь заинтересовавшее его движение. Механики-французы относились к нему добродушно и, посмеиваясь меж собой над этим русским медведем, охотно показывали то, что он просил.
Многого Заикин не понимал. Тогда он отзывал в сторону Ульянина и робко просил:
- Ты, Сергей Алексеич, человек умственный, так объясни, будь ласков, для чего эти самые элероны нужны, никак я в толк не возьму.
Ульянин терпеливо объяснял. Он не обижался на атлета даже тогда, когда тот отрывал его от работы: все свободное время штабс-капитан что-то рассчитывал и вычерчивал. Однажды Заикин, застав его за этим занятием, не выдержал и простодушно спросил:
- И что это ты, Алексеич, глаза-то портишь? Как монах: заперся в своей келье и на люди не кажешься. Обет, что ль, кому дал?
Ульянин оторвался от своих чертежей и устало улыбнулся.
- Самому себе, Иван Михайлович. Хочу вот закончить разработку чертежей двухмоторного аэроплана для завода Щетинина. Хватит нам, русским, на "фарманах", "блерио" да "вуазенах" летать, не захудалая страна Россия, не задворки Европы. Есть у нас силы, есть люди.
- Выходит, ты в царствие небесное на своем аппарате решил отправиться? - ухмыльнулся Заикин.- Зря, значит, про тебя говорят, что нелюдим ты и бука.
- Времени в обрез, дорогой мой, потому и монахом стал - поморщился Ульянин.
И вдруг, в каком-то неосознанном порыве откровенности, сказал:
- Есть у меня еще заветная думка. Никому я о ней не говорил, а тебе скажу. Хочу построить прибор, который бы управлял аэропланом с земли...
- Ну, это, брат, блажь какая-то, - невольно вырвалось у Заикина.
Штабс-капитан, пропустив эту реплику мимо ушей, продолжал.
- Если ты слышал про грозоотметчик Попова, про электромагнитные волны, которые передаются по воздуху, то скажу, что действие моего прибора основано именно на этом принципе. Авиации в будущих войнах суждена выдающаяся роль. И тогда управление аэропланом на расстоянии приобретет значение важнейшее. Я уж и схему прибора набросал. Приеду домой -o построю модель.
Заикин слушал его, стараясь не проронить ни слова. Впервые он ощутил откровенную зависть к техническим познаниям, к смекалке своего товарища по школе. Вместе с этим мимолетным чувством возникло уважение к Ульянину, который был одержим своими идеями, работой и сознательно принес в жертву им все остальное.
Он долго не находил, что сказать, а потом удивленно протянул:
- Чего ж до дому откладывать, чудак-человек. Нешто у Фармана на заводе нельзя построить мо-дельку?
Ульянин отрицательно помотал головой.
- Нельзя. Это изобретение должно принадлежать русскому народу.
Заикин не спросил почему. Он тотчас вспомнил, что Фарман со строгим разбором пускал на свой завод чужестранцев и не только чужестранцев, но и своих соплеменников, которые могли стать конкурентами, - ревностно тая от посторонних глаз производственные секреты фирмы. Его, Заикина, пускали, зная, видимо, что он далек от техники, а следовательно, и безопасен.
Решив проверить догадку, он спросил Ульянина:
- А тебя-то на завод допускают?
- Нет. А мне без надобности. Я и без этого могу разобраться, что к чему.
- Тошно мне, - со вздохом признался Заикин.- Ярославцев, антрепренер мой, пишет: борцы запьянствовали, труппа развалилась, и прогорел он - денег нет. И тут места себе не могу найти: Фарману франки сполна плачены, а я досель не летал. Ежели так и дальше будет- не полечу я, а вылечу. В трубу.
Ульянин невесело усмехнулся.
- Да, не жалуют нас хозяева. И не пойму - почему. Конкурентов, что ли, чуют. Эвон как Ефимов нос им утер.
Наступил день показательных полетов. Весело гремел оркестр, тысячные толпы облепили все вокруг, и поле с прилегающими к нему дорогами напоминало расползшийся муравейник. Заикину почему-то вспомнилась Нижегородская ярмарка, кишевшая народом, балаганы с удалыми зазывалами, гулянье с каруселями, лотками, полными всякой снеди...
Здесь все было похоже и все по-иному, без лихости и бесшабашности русской толпы. Гуляющие заполнили поле, с любопытством рассматривая аэропланы. Но стоило подать сигнал к началу полетов, как аэродром тотчас очистился - все быстро заняли свои места.
Стартер махал флажком, и очередной аппарат с пугающим треском отрывался от земли, сопровождаемый восторженным гулом зрителей.
Заикин с несказанной завистью провожал глазами каждый аппарат. "Эх, был бы я там, - думал он. - Сердце бы втиснул в мотор - давай выше, к самым облакам!"
Облака висели недосягаемо высоко - снежные пушистые перья с краями, позолоченными солнцем. Казалось, стоит добраться до них - и можно на минуту остановить бег аэроплана, зацепившись за какое-нибудь бегущее облачко.
Небо властно манило, притягивало к себе. Но хрупкие стрекозы, сделав два-три круга, тяжело валились вниз, словно обессилев. "Мяса на вас мало- вон вы какие тощие, - думал Заикин. - К вашему бы скелету мои мускулы".
Аэропланы взлетали и садились, гул моторов мешался с ревом толпы и музыкой. Эта возбуждающая симфония звуков постепенно привела Заикина в ярость. Он сорвался с места и, бесцеремонно расталкивая впереди стоящих, кинулся к судейскому столу, во главе которого восседал сам шеф.
- Когда же я полечу, мсье Фарман?! Когда?!
Фарман посмотрел на Заикина так, как смотрит дрессировщик на вышедшее из повиновения животное. Ему услужливо перевели слова атлета, и тогда он спокойно, даже ласково сказал:
- Ваша очередь придет, не волнуйтесь, мсье Заикин.
Предыдущая глава | Следующая глава
На главную страницу
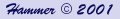
Использование любых материалов с этого сайта - только с моего письменного разрешения.