Снова начались скитания по бессарабской земле. Началась цыганская жизнь циркового артиста. И хотя тешил себя Иван Михайлович мыслью, что по-прежнему утверждает он русскую силу и русский спорт, главным в чемпионатах, освященных его именем, было - деньги.
Хотелось поднакопить немного на черный день, а таким днем рисовалась старость, поначалу подкрадывавшаяся потихоньку, а теперь все чаще и чаще казавшая зубы. Он видел: коротали последние свои годы в нищете прежде всемирно знаменитые спортсмены. Порой находился богатый благотворитель, меценат, который из милости, из внимания к прежним заслугам, пристраивал одряхлевшую знаменитость на должность швейцара. И человек, которому когда-то кланялись в пояс, перед которым благоговели и которым гордились, сам кланялся теперь в пояс, сам благоговел перед господами, открывая им двери барского особняка, и те подчас совали ему в руку монетку. Такова была горькая изнанка буржуазного спорта.
Заикин панически боялся старости, одряхления. Он старательнее, чем когда бы то ни было, занимался физическими упражнениями. Перспектива протягивать руку на старости лет, как когда-то в юности, страшила его.
И снова и снова разматывались перед ним бесконечные километры бессарабских дорог-мощенных и пыльных, пустынных и людных, большаков и проселков. Снова и снова раскидывал он свое рондо в больших торговых селах и маленьких поселках, в портовых городах и на привокзальных площадях железнодорожных станций.
Его труппа то разрасталась - одолевали любители, то становилась куцой: порой сбегали даже "птенцы", которым докучала кочевая жизнь. Тем не менее охотники выступать пока находились. Заикин даже "разбогател": появилась радиола с зазывной музыкой. Затем удалось приобрести по случаю настоящий брезентовый балаган с крышей и прочими удобствами. Теперь труппа волжского богатыря не зависела от капризов погоды.
Годы шли быстрой чередой, и Заикин, казалось, не замечал их бега за гастрольной суетой. Одно было заметно: публика постепенно теряла интерес к борьбе, особенно "чистая", городская. Приходилось кочевать по селам, где, как правило, больше двух представлений не дашь, хоть расплющись в лепешку. Третье представление уже не делало сбора. Подчас выручка не окупала денег, плаченных балагулам за перевозку имущества.
Иван Михайлович рядился с бродячими фокусниками, с жонглерами, и те вливались в его труппу: одному уже было не под силу тянуть на себе программу. Он стал выступать в последнем отделении, "на-закуску".
Бельцы, Липканы, Хотин, Черновцы, опять Бельцы, Бендеры, Аккерман, Белград, Рени, Кагул... Казалось, этому не будет ни конца, ни краю.
- И когда вы, батя, угомонитесь? - пошучивали его "птенцы".
- Вот когда помру, тогда и угомонюсь,- серьезно отвечал Иван Михайлович.- Вы-то меня хоть и втрое моложе, на лопатки не положите. С одной смертью только, пожалуй, мне не совладать..
Близилось шестидесятилетие: наступил 1940 год. Иван Михайлович встретил его в дороге.
Все труднее становилось ездить. Бессарабию наводнили военные. Английские и французские офицеры катили по дорогам в запыленных автомобилях с румынскими номерными знаками. Унылые солдаты с крестьянскими лицами маршировали в сторону восточной границы. Там, по слухам, строились укрепления.
Надзирающие чины сигуранцы, жандармерии, префектур то и дело задерживали заикинцев под разными предлогами, особенно если их путь лежал в сторону границы.
Иван Заикин, человек без румынского гражданства, был тем не менее чересчур популярной фигурой. Его нельзя было так просто задержать или запретить ему выступать. Властям приходилось считаться с европейской известностью русского богатыря. До самого последнего времени о Заикине вспоминали организаторы борцовских чемпионатов; Он успел побывать в Праге, Белграде, Виге. Груз лет не помешал ему одерживать победы над молодыми и подчас многоопытными борцами.
Скрепя сердце власти выдавали ему заграничные паспорта. Но теперь наступили такие времена, когда Заикину был закрыт путь даже в некоторые бессарабские города и местечки.
Он попробовал было жаловаться, но не получил ответа. Новая жалоба, полетевшая вслед за первой, тоже не высекла искры. Иван Михайлович понял, что чиновники, не пускавшие его в Бендеры, действовали по "высочайшему предписанию".
Королевская диктатура, задавившая и без того жалкие остатки "демократических свобод", находилась на выучке у бесноватого фюрера. Румыния взяла курс на фашизм, на войну.
Ивану Михайловичу казалось, что кто-то невидимый сдавил железными тисками грудь страны. Стало трудно дышать. По утрам, раскрывая свежие номера газет, Иван Михайлович читал заметки об арестах и запрещениях. Арестованы "коммунисты" и "московские агенты", запрещены профсоюзы, забастовки и стачки, партии левых направлений... Заметки такого содержания стали привычными.
- Едем в Измаил,- решил Заикин.- Может, там воздух чище: все-таки река Дунай велика. Готовь хозяйство,- приказал он Свободину.
Оборудование и реквизит отправили по железной дороге. Через два дня погрузилась в вагон и труппа.
Ехали долго. Простаивали на полустанках, пропуская задраенные, зачехленные эшелоны с молчаливыми часовыми вместо проводников.
"Странная война", замершая на франко-германской границе, кончилась. Немцы обрушились на Бельгию, Голландию, Францию. Пал Париж. Гитлер ломал комедию в Компьене. Наступили тревожные времена.
На сердце у Ивана Михайловича было беспокойно. "Неужто это только начало? Неужто пожар перекинется и сюда?" - размышлял он со все возраставшей тревогой. Гнал от себя эти мысли, а они возвращались-упорные, навязчивые. Они будоражили всю дорогу и с новой силой охватывали его тогда, когда мимо окон проносился воинский эшелон с молчаливыми, неулыбчивыми солдатами и щеголями-офицерами.
Иван Михайлович стал плохо спать. Упорно глядя в потолок, он перебирал свою жизнь, вспоминал друзей. Их ряды редели. Александр Иванович Куприн осуществил, наконец, свою мечту: вернулся на Родину, все простившую и не помнившую зла. Он покоится в родной земле. Ушли из жизни многие его друзья и соперники по борцовскому ковру, и на спортивном небосклоне засияли новые звезды. Долго ли осталось царствовать ему, "королю железа"? Быть ли ему до конца дней обломком родной земли? Еще несколько месяцев, и надо будет справлять шестидесятилетие, подводить итоги. .Какими они будут, эти итоги?.. Сорок лет он не знал поражений на арене. Нет, знал. Тезка его, Иван Поддубный, единственный, кто честно припечатал его лопатками к ковру. Жив и здрав Поддубный, как говорят, еще в силе.
...В Измаил поезд пришел утром. Свободин, выехавший на день раньше, встречал их на вокзале.
- Порядок, Иван Михайлович. Место абонировано, афиши расклеены, сборы будут, - доложил он.
- Нешто и сборы гарантированы?-усмехнулся Заикин. - Смотри, какой прыткий: Измаил покорил. Суворова, небось, на том свете завидки берут.
- Ждут вас, Иван Михайлович,- уверял Свободин. Затем, оглянувшись и понизив голос, сказал:
- И тут полным-полно вояк. В порт кораблей нагнали, мониторов разных, катеров. Два дня назад, говорят, облава была. Шпионов каких-то искали - не то немецких, не то турецких, не то советских...
- Пуганая ворона куста боится,- односложно ответил Заикин. И непонятно было, кого он имеег в виду под этой самой "пуганой вороной".
-
- Ох, беспокойно мне, Иван Михайлович,- бормотал Свободин,- как бы не случилось чего...
- Я счастливый, - хлопнул его по плечу Заикин, да так, что щуплый администратор присел. - Почитай, шесть раз меня хоронить собирались и поминки заказывали, а я вот - живой. Держись рядом- не пропадешь. Думаю, еще не раз смерть об меня зубы обломает.
Несмотря на ранний час, в городе было многолюдно. Один людской поток тек на базарную площадь, другой вытекал оттуда. В кошелках дремали встрепанные куры, видимо, смирившиеся с ожидавшей их судьбой, зеленели бокастые капустные кочаны, румянились яблоки... Покачиваясь, брели красавцы-волы, глядя вокруг величественно и равнодушно; суматошно верещали поросята, гоготали гуси... Вся эта утренняя симфония Измаила была густо сдобрена певучей украинской речью, к которой изредка примешивался русский, а еще реже - молдавский говор.
Картина дышала миром. И как-то даже не верилось, что где-то, в тысячах километров отсюда, ухают пушки, раздаются взрывы бомб-гремит другая симфония-симфония войны, смерти и разрушения.
Иван Михайлович бывал в Измаиле-и не раз. Ему по душе пришелся этот маленький город, где привольно звучала русская речь и где все было полно реликвиями ратной славы русского народа. И как ни старались новые "хозяева" вытравить эти воспоминания, город жил ими и гордился.
Утро выдалось ясное, теплое, предвещая жаркий день. Свежий ветерок дул с Дуная, принося с собой запахи рыбы, смолы - целый букет запахов, острых, будораживших обоняние.
В небольшой гостинице было пустынно. Их встретил сам хозяин и, кланяясь, провел в комнаты. Заикину был предназначен "луке" - как усердно подчеркивал хозяин. "Луке" оказался двумя небольшими комнатушками с пыльными неопределенного цвета портьерами, фикусом и подслеповатым зеркалом, в котором едва отражались пышная двуспальная кровать, круглый стол и гравюра "Взятие Измаила" бог знает какой древности, густо засиженная мухами.
Иван Михайлович скептически оглядел все это гостиничное великолепие и вздохнул. Луке так луке- в конце концов все равно, было бы где голову преклонить.
Оставив чемодан, он решил немного прогуляться до завтрака. Прошло каких-нибудь полчаса, а уж городок словно вымер. На улицах не было никого, кроме мальчишек, по обыкновению глазевших на него с раскрытыми ртами да равнодушных ко всему собак.
Иван Михайлович шел к Дунаю, к пристани. Да, постарался Свободин: афиши с его портретом белели буквально на всех перекрестках. "Волжский богатырь в дунайского перекрестился",-внутренне усмехнулся Иван Михайлович, быстро шагая к реке. А что: богатырь Волги и Дуная - звучит неплохо...
Домики неожиданно разошлись в стороны, словно выказывая почтительность будущему дунайскому богатырю, и взору открылось величавое зеркало реки.
Казалось, это широченная улица, на которую вдруг перебрался Измаил: так оживленно было на реке. Лодки и лодчонки, парусники и моторки торопились в разные стороны по своим делам. Серые, неуютные "утюги" мониторов приткнулись к пристани. Рядом с ними, будто грудные младенцы, покачивались катера. Орудия были расчехлены, и около них, словно игрушечные, выплавленные из олова, стояли румынские матросы.
Картина была живописна, но эта живописность не радовала глаз, а будила беспокойство. Заикин в сердцах сплюнул и повернул к руинам крепости. "И чего ершатся, завоеватели, - сердито думал он. - Глядели бы почаще на камни эти да старину вспоминали бы..."
Время и войны порядком потрудились над некогда грозным сооружением. На месте надвратных башен и стен лежали груды камня. Уцелевшие глаза бойниц глядели уныло и совсем не грозно, может быть, потому, что всюду кустилась чудом прилепившаяся зелень, точно волосы, лезшие из ушей и ноздрей дряхлого старца.
Иван Михайлович обошел развалины и уселся на растрескавшийся мшистый камень, видно, обломок крепостной стены. Зеленая ящерица пугливо прошмыгнула у самых его ног и исчезла - растворилась в траве. Над рекой плыли облака, и суда, бороздившие воду, казались их отражением.
Солнце всползало все выше и выше, выпарив прохладную свежесть утра. Становилось жарко, и Заикин, поднявшись, зашагал в город. Беспричинная тоска овладела им, а в такие минуты он становился угрюм, колюч и придирчив.
"Кто я?-в который раз вопрошал он.-Шесть десятков лет за плечами, вроде бы и славы добился, а кто здесь считается с ней, с этой славой?Кому я нужен здесь, на чужой земле? И что ждет меня через десяток, лет? Смерть под забором?"
И опять он остро позавидовал Поддубному. Ему уже минуло семьдесят, государство назначило персональную-пенсию, наградило орденом... Сам Калинин на грудь прицепил. "Приезжай, поборемся,- шутливо предлагал ему Иван Максимович в одном из писем. - Хоть я и постарше тебя буду, а на лопатки положу как пить дать..."
"И положит, чертяка", - хмуро думал Заикин. Поддубному все было ясно, все видно. Ему нечего было бояться старости, как боялся ее Заикин.
Можно было бы, конечно, продать свою гордость, свою совесть русского человека за благодеяния короля. Еще полтора десятка лет назад король Фердинанд, смотревший его выступление из своей ложи в Бухарестском цирке, подослал какого-то придворного ферта с комплиментами.
Мысль, что он даже в самые трудные минуты своей жизни оставался верен Родине, не поддавшись соблазнам сытой жизни и мимолетному искушению, наполнила его радостью.
Он шел по вымершим улицам городка, все убыстряя шаг. Хлопали ставни, как перед грозой,-обыватели спасались от жары. Все живое попряталось в тень, и редкие прохожие совершали перебежки от дерева к дереву.
В "луксе" было прохладно, и Иван Михайлович с наслаждением растянулся на скрипучей кровати. Надо было убить время. Он успел уже привыкнуть к монотонным, до удивления долгим будням этих Маленьких городков и местечек, где каждый ной день ничем не отличался от предшествующего и наверняка ничем не будет отличаться от будущего, где, казалось, люди и дома, и даже собаки похожи друг на друга как две капли воды.
Он рассчитывал, что в Измаиле можно будет дать десять-двенадцать представлений от силы, пока сборы совсем не упадут. И тогда придется перекочевывать на другое место, может быть, в Рени, а может, в Вилково, словом, куда-нибудь по соседству, чтобы переезд обошелся дешевле.
Заикин никогда, даже в самые нищенские годы
свои, не был скопидомом. Но теперь он все чаще занимался подсчетами, порой мелочными, все чаще ограничивал расходы - и свои, и труппы.
И вот ровной чередой потянулись эти похожие друг на друга дни. Иван Михайлович работал без всякого подъема, как автомат кланялся публике, выходя на вызовы, как автомат ел, спал, делал свою привычную разминку, совершал утренние прогулки на берег Дуная, купался... Все тот же пейзаж с величавыми, оправленными в зеленый багет садов берегами, серыми утюгами военных кораблей, Дунаем - улицей лодок и лодчонок, открывался ему день за днем.
Во время одного из представлений случился конфуз. Железная балка не поддалась, и Заикин, побагровев от натуги и душившей его бешеной ярости, потерял равновесие и упал на опилки.
С минуту он лежал в ошеломлении, словно раздавленный этой самой балкой, которая за день до этого легко поддавалась его усилиям. Набрякшие от натуги глаза слезились. Сквозь мутную пелену проглядывались какие-то люди, подскочившие к нему и силившиеся поднять обмякшее тело "короля железа". Люди что-то участливо говорили ему, но он не понимал слов: все было как в тумане.
Ему полегчало, когда кто-то догадался спрыснуть его водой, а на голову легло мокрое полотенце. И сразу иглой пронзила мысль: "Неужто надорвался?!"
В тесной комнатушке - "артистической уборной", в которой толпилась вся труппа, Иван Михайлович окончательно пришел в себя. Он привстал с жесткого топчана и виновато улыбнулся.
- Вот, братцы, какая докука вышла: знать, кончаются мои годы.
Все наперебой стали его утешать. Но он только махнул рукой и уронил голову на грудь.
Вышел Свободин и объявил, что из-за внезапной болезни волжского богатыря и чемпиона мира Ивана Заикина его выступление отменяется.
- Представление продолжается! - бодро выкрикнул Свободин, и из репродуктора полилась веселенькая мелодия.
"Представление продолжается... Без меня",-с грустью подумал Иван Михайлович и нетвердой походкой поплелся к выходу.
Вызвали врача, кажется, единственного на весь город. Он, маленький и щуплый, облазил всего Заикина, непрерывно охая и изумляясь.
- Ничего, милейший мой Атлант, не нахожу,- развел он руками. - Сердце такое, что может позавидовать двадцатилетний. Вероятно, понервничали, потеряли душевное равновесие. Рекомендую отдохнуть денек-другой, ,а там можете продолжать за милую душу.
Тотчас повеселевший Заикин проводил врача к выходу, сунул ему бумажку в пятьсот лей и так пожал руку, что доктор охнул и съежился.
- Приходите, батюшка доктор, со всей семьей хоть на каждое представление. Прикажу вам места оставлять.
- Благодарю, почтеннейший мой Геркулес, но только предпочту сидеть дома.
Заикин недоуменно вскинул брови. И врач, перейдя на полушепот, пояснил:
- По-моему, назревают какие-то серьезные события. Невиданное дело-войска заполонили весь город За последние пятнадцать лет такого не помню. Когда было восстание в Татарбунарах, у нас ввели осадное положение. А с той поры тихо. И вдруг такое. Это, милейший, заставляет насторожиться...
Врач, откланявшись, ушел, а Заикин возвратился а комнату, раздумывая над его словами. Только теперь. он вспомнил, что под брезентовым куполом последний раз было чересчур много военных, особенно румынских моряков. Но тогда он не придал этому значения, наоборот, рад был аншлагу, обилию незнакомых людей, которые смогут оценить его, Заикина, неубывающую силу на пороге седьмого десятка.
"Нешто война? Подобралась, значит",-подумал-он, беспокойно шагая из угла в угол. Он отогнал от себя пугающую мысль, выпил какие-то остро пахнущие-капли, прописанные доктором, и, завалившись на кровать, почти тотчас же уснул мертвым сном.
Разбудило его солнце. Комната вся была полна им.
Светились и сияли в его благостных лучах никелевые шары кровати, желтый стеклянный графин, стоявший на столе, и даже тяжелые пыльные портьеры.
Заикин вытащил из-под подушки большие карманные часы - подарок его поклонников - и щелкнул крышкой. Стрелки показывали шесть.
Ощущая во всем теле какую-то удивительную легкость, Иван Михайлович быстро оделся, схватил полотенце, сверток с завтраком, приготовленный накануне,
oн поспешил на реку.
Город медленно просыпался, осиянный щедрыми лучами встававшего солнца, обласканный утренней
oсвежестью и словно отмытый и приукрашенный самим утром.
Иван Михайлович миновал последнюю улицу, за которой сразу открывался вид на Дунай, и остановился, пораженный.
Над зданием порта полыхало огромное красное полотнище. Красные флаги реяли на кораблях. Солнце высветило их с пронзительной резкостью, и казалось, что на флагах навечно остался след его багрового диска.
Приглядевшись, еще не веря своим глазам, Иван Михайлович заметил, что в порту стоят не те корабли, которые толпились там накануне. Только теперь он вспомнил про какие-то листки, белевшие на заборах.
Чувствуя, как бешено колотится сердце, он кинулся
назад, в город. У крайнего забора толпились люди.
"Читают", - подумал Иван Михайлович и стал лихорадочно шарить по карманам, ища очки. "Так и
есть-забыл!"-с отчаянием подумал он.
Расталкивая людей, он пробился к листовке, приклеенной криво, видимо, наспех.
- Кто грамотный-читай громко, чтобы всем
слышно было! - властно приказал он.
И, повинуясь, один из стоявших стал читать:
"Граждане освобожденной Бессарабии! 22 года население Бессарабии, кровью своей завоевавшее наряду с другими народами бывшей царской-России свободу, стонало под игом белорумынских захватчиков. Разоренное, обездоленное население с завистью глядело на тот берег, где в дружной борьбе за мир и счастье работали наши братья.
22 года жили люди светлой надеждой на будущее и боролись за него в застенках тюрем.
Сегодня будущее, о котором мечтали, становится настоящим. Сегодня, когда над нами грозно нависла война, когда королевская диктатура готовилась затянуть петлю на шее народов Румынии, сегодня наши братья по крови и борьбе протягивают нам руку помощи..."
У человека, читавшего листовку, неожиданно перехватило в горле. Он глотнул воздух, обернулся, и широкая улыбка озарила его лицо. И все вокруг, дотоле молчаливо, сосредоточенно слушавшие, вдруг задвигались, заулыбались, сначала нерешительно, будто еще не веря услышанному, а потом все свободнее и радостнее.
Щуплый подросток, стоявший и слушавший вместе со всеми, разом сорвался с места, кинулся на шею Заикину и повис на нем, горланя:
- Ура!
Иван Михайлович засмеялся и крутнул парнишку вокруг себя. Его выкрик был искрой, попавшей на горючий материал. Вокруг забушевали возгласы:
- Ура Красной Армии!
- Да здравствует Советский Союз!
Радость и волнение охватили людей. И они, до той поры топтавшиеся на месте, искавшие выхода своим чувствам, стали обниматься, восторженно кричать, хлопать в ладоши. Потом все бросились бежать: одни в город, другие к пристани.
Этот жаркий июньский день-28 июня 1940 года-был накален человеческой радостью. Люди не замечали жары. Они словно бы сами несли в себе солнце.
Только поздно вечером Иван Михайлович, втянутый в водоворот этого народного ликования, пробился, наконец, к брезентовым стенам своего балагана.
Он нашел там одного Свободина. Тот, завидя Заикина, облегченно вздохнул и укоризненно произнес:
- Вот, а вам доктор лежать велел. Мы весь город обегали, переволновались. Да разве в такой буче человека сыщешь?..
- Да разве можно в такой день усидеть на месте?-в тон ему заметил Заикин. - Эх ты, сухарная душа. Чувствовать надобно!-выкрикнул он. Глянь: народ, как Волга, растекся-широко, привольно. Все бурлит, все кипит, все радуется.
Свободин, округлив глаза и понизив голос, сказал:
- Тут до вас советский начальник приходил. Спрашивал, где вы и будете ли давать представления.
- Ну, а ты что?-нетерпеливо перебил его Заикин.
- Ответил, вестимо, что больны и доктор запретил" выступать.
- Эх, одно слово-сухарь!-в сердцах Заикин
даже сплюнул. - Буду выступать. Весь день завтра буду!
На следующий день Иван Михайлович разыскал
коменданта города. Им оказался высокий плотный моряк лет эдак пятидесяти или около того, совершенно седой, но моложавый и подтянутый.
- Заикин, экс-чемпион мира по борьбе, артист,-представился Иван Михайлович.
Комендант неожиданно широко улыбнулся и обра-дованно потряс протянутую ему руку.
- Знаю, уважаемый, многое о вас знаю. Экое счастье, что судьба свела нас здесь. Я ведь мальчишкой вам поклонялся, Иван Михайлович. Была у нас одна игра-в Заикина и Поддубного.
Иван Михайлович просиял. И разговор, о котором он мучительно думал все утро, к которому готовился и которого чуть побаивался, - вдруг скажут, что ошде какой-нибудь там невозвращенец,-потек сам собой,-свободно и легко.
- Я ведь вас пошел разыскивать, как только увидел афиши в городе, - блестя глазами, говорил комендант.-Признаться, не думал, что вы еще выступаете. В моих воспоминаниях вы-как легенда детства.
- Вот, держусь пока, бог даст, еще несколько лег протяну. Силой не обижен, не обделен - не сглазить-бы. - Сколько же вам, Иван Михайлович?
- Да вот, ноне шестьдесят стукнет. На лице моряка в командирском кителе ясно читалось сомнение.
- И что же вы-силовые номера показываете?
- А как же! Как был королем железа, так и досель величают. Чай, на афишах видели. Могу тут же и показать.
Заикин круто повернулся и зашагал к выходу. За
ним, горя любопытством, двинулся комендант.
Во дворе, где прежде находилась примария, а теперь разместилась временная советская комендатура, было оживленно. Здесь расквартировался артиллерийский дивизион.
Батарейцы выпрягли сытых коней из запряжек. Пушки были зачехлены, возле них размеренно шагал часовой. Остальные красноармейцы расположились в садике и занимались кто чем. Гармонист растягивал меха, наигрывая какой-то несложный мотив.
- Прикажите подвести сюда две парный запряжки,-попросил Заикин.
Комендант кликнул старшину. Тот, недоуменно вскинув брови, повторил приказание, и вскоре перед
oними стояла четверка крупных буланых коней. Подошли заинтересованные красноармейцы, гадая, что будет дальше.
Иван Михайлович скинул рубашку, обнажив атлетический торс, поплевал на руки и, крепко ухватив деревянные вальки, скомандовал:
- Ну-ка, гони в разные стороны.
Из толпы резво выскочили два батарейца и принялись погонять лошадей.
Кони рванулись в стороны. Из-под копыт полетели сухие комья земли. Заикин побагровел от напряжения, но стоял, как влитой, раскинув руки.
- Погоняй пуще! - хрипло крикнул он. Воцарилась напряженная тишина.
Испуганные кони храпели, вставали на дыбы, но не могли тронуться
с места.
- А теперь оглаживай. Будет. А то найдет на них порча,-хрипло приказал Заикин. И батарейцы взялись за уздцы. Приговаривая одним им ведомые слова,-они успокоили лошадей и отвели упряжки в стороны.
Вокруг кипело восхищение. А Иван Михайлович, оглядевшись, заметил у забора ржавую железную-балку. Подошел к ней, вскинул на плечи и, крякнув, надавил руками.
Люди зачарованно глядели, как балка медленно сгибалась, осыпая коричневые лепестки ржавчины.
-Хватит, - выдохнул Заикин. - Плечи натружу без лямки. И легко, точно соломинку, скинул балку к ногам.
- Ось, який Муромец! - восторженно выкрикнул молоденький красноармеец. - Качать его!
- Качать! - подхватила толпа. И вот уже, бережно подхваченный десятками рук, Заикин взлетает над головами.
- Уф, тяжелый, упарились,-посмеивались батарейцы, опуская атлета на землю. Из уст в уста, как эстафета, как визитная карточка, передавалось "Иван Заикин, чемпион мира".
К нему подошел комендант. Он не скрывал своего восхищения. Восхищения и изумления.
- Это, знаете ли, феноменально. Другого слова не нахожу. В шестьдесят-то лет...- И комендант развел руками.
А Заикин, все еще тяжело дыша, ответил с добродушной усмешкой:
- Волга-матушка силой налила. Из бурлаков я... Он странствовал целый день. Был на кораблях, изумляя матросов, крутил "карусель" на площади. На концах бревна висла дюжина пехотинцев, а ротный баянист наигрывал вальс.
Вечером состоялось представление. Свободин V другие "заикинцы" пробовали его урезонить, напоминали .о врачебном запрете. Но Иван Михайлович только усмехался в ответ:
- К родной земле припал я, братцы. К родной земле! В ней - моя сила!
Предыдущая глава | Следующая глава
На главную страницу
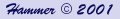
Использование любых материалов с этого сайта - только с моего письменного разрешения.