Москву, куда приехал Заикин и его спутники, трудно было удивить видом аэроплана. Первым из русских авиаторов здесь летал Сергей Уточкин. Незадолго до приезда Заикина демонстрировал полеты Михаил Ефимов.
Профессор Николай Егорович Жуковский - отец русской авиации -o был духовным отцом Московского общества воздухоплавания. Общество вступило во владение Ходынским полем.
Шла осень 1910 года. Вернулся из Франции Борис Илиодорович Российский, позднее прозванный "дедушкой русской авиации". Он поставил на Ходын-ском поле ангар и распаковал аппарат - "блерио-XI"-со специального соизволения городской думы. Это был первый "свой" аэроплан москвичей.
Жуковский читал курс теории воздухоплавания в Московском высшем техническом училище. Москва становилась центром русской авиационной мысли.
Габер-Влынский, товарищ Заикина по "Этампу", стал первым инструктором Ходынского аэродрома. Под его руководством члены Общества воздухоплавания обучались искусству пилотажа.
Но это было позже. А пока Заикин парил в небе Москвы, разорванном медными крестами "сорока со-роков". "Иван великий", как нередко называли его друзья, поднялся над колокольней Ивана Великого. Он выполнил условие москвичей - достиг высоты одного километра.
Под крылом лежала необычно тихая, словно вымершая Москва. Голубой извилистой лентой резала ее Москва-река. Ослепительно сияли в лучах солнца огромные купола храма Христа-спасителя. Громада Сухаревской башни вонзалась в небо ржавым клинком.
Неожиданно заглох мотор. Заикин похолодел. Но легкий "фарман" птицей парил в московском небе.
К Заикину тотчас вернулось самообладание. Он развернул аэроплан и повел его к аэродрому. Самолет нехотя терял высоту. Ходынка приближалась.
В Москве его застигла весть о гибели Льва Макаровича Мациевича. Это была первая жертва среди российских авиаторов.
В сентябре в Петербурге, на Комендантском аэродроме, проводился Всероссийский праздник воздухоплавания. Одиннадцать русских летчиков демонстрировали свое искусство.
Лев Макарович летел на "фармане". И вдруг аппарат стал разваливаться на глазах у зрителей. Передняя часть странно наклонилась, и Мациевич камнем полетел вниз...
Заикин, не стесняясь, плакал. Мациевич был ему ближе других. "Ровно брат родной, был он мне", - всхлипывая, бормотал он.
Москва как-то сразу стала ему тошной. Вдобавок заладили дожди. Ходынка сделалась непроходимой не только для конного, но и для пешего. О полетах нечего было и думать.
Заикин приказал разбирать аппарат. "Едем в Одессу", - бросил он.
Черноморская столица все еще не успела охладеть к авиации. Ефимов и Уточкин - одесситы - были ее кумирами, Заикина тоже почему-то считали одесситом и оказывали ему соответственные почести.
В любом городе России Заикин не испытывал недостатка в друзьях и почитателях. В Одессе их было, пожалуй, больше всего. На него накинулись сразу, как только он приехал. Все были в курсе его полетов - следили по газетам. Жадно ловили подробности, засыпали вопросами.
- Я охнул, смотря в синематографе ленту "Полет и падение Ивана Заикина в Харькове", - признался Куприн. - Экий ты ангел бессмертный! Неуж-то не мог отказаться от полета?
- Амбиция заела. И полицмейстер пристал, как банный лист.
- Со смертью кокетничаешь, дурья башка. Добром сие не кончится.
- Я заговоренный,- усмехнулся Заикин.- Опять же твово божка, будду этого, все время с собой вожу-не расстаюсь. Бережет. Раз десять оземь грохался - цел остался.
- А мне, брат, что-то перестало везти с тех пор, как я подарил тебе этого божка. Как будто чего-то не хватает, - со вздохом признался Куприн.-Черт-те что, суеверным становлюсь.
- У нас одним губернаторам да купцам везет. А рабочему человеку на везение надежда плохая,- философски произнес Заикин, рассмешив Куприна.- Вот мне, думаешь, везет? Кости ломал, аппарат-чего уж хуже-ломал, напрочь кожу обдирал, к Пташниковым в кабалу попал... А все говорят: везучий человек, бог его бережет. А мне этот самый бог без счету пинков да зуботычин навешал. Да и весь наш род заикинский такой. Матушка сказывала:
двадцать один ребенок у нее был. За два дня на Тихорецкой семерых похоронила - холерный год случился, в бараках жили. Да и остальных не уберегла, один я в живых остался. Сын мой от первой жены тоже помер.
- Ну вот, а ты говоришь-не везет. Да тебя сама судьба хранит, чтоб не вывелся заикинский корень.
- Это, пожалуй, верно. Последний я корешок могучего нашего древа.
- И какой!-подхватил Куприн.-Отборный. Железный. Поискать - не найдешь. Жаль только, что темен ты остался, выучиться грамоте не хочешь.
- А летать тогда кому? А бороться? А с железом работать? Каждому овощу свое время и свое место, Лексан Иваныч, вот что я тебе скажу. И не допекай ты меня.
Куприн с сожалением вздохнул. Нет, не проймешь этого мужика. У него своя точка: ногами в землю врос, уперся, и не сдвинуть, хоть изведись, хоть тресни. Приступал к нему не единожды, и все слова, уговоры отскакивали, не оставляя следа.
- Пойдем-ка лучше твою Елизавету Морицовну навестим,- неожиданно предложил Заикин.- Да и дочку Ксенюшку погляжу. Занятна, небось?
- Занятна. А и в самом деле пойдем. Лиза беспокоится, надо полагать: я уж давно из дому.
Вечером Одесса - газетная, писательская, спортивная, богемная-в ресторане "Северный" чествовала летуна-богатыря. Писатели Куприн и Юшкевич, художник Кузнецов, куплетисты Убейко, Морфесси и Смирнов-Сокольский, авиаторы Уточкин и Хиони, газетчики большие и маленькие и прочий люд восседали за сдвинутыми столиками.
Заикнна раздирали на части.
- Ну как ты на аэроплане?
-Известно как: сижу на жерди как ведьма на помеле, а под ногами пропасть...
--Иван Михайлович,- придвинулся к нему Николаи Дмитриевич Кузнецов.- Я должен закончить ваш портрет. Вы обещали мне позировать, когда приедете...
- Господин летун,- дергал его за рукав куплетист Юлий Убейко.- Послушайте же куплеты, вам посвященные...
- Ванья, не слюшай,-тянул его к себе клоун Чиардо Жакомино, друг Александра Ивановича, талантливый циркач. Смешно заламывая руки, он умолял:- У тебя тольстый шкура, но и она продырявит авиация. Возвращайся лючче цирк...
- Пьем за здравие борца-авиатора!- раздался пьяный выкрик из ложи.- Иван Михайлыч, пожалте к нам!
Заикин поднял глаза. В ложе бражничала компания офицеров. Они нетвердо поднялись с бокалами в руках и глядели в его сторону.
- Я не шансонетка. По столам не хожу,- сухо ответил Заикин.
Видно, офицеры не расслышали, потому что минут через пять к нему спустился с двумя бокалами дородный щекастый полковник. Глаза-щелочки излучали умиление, мокрые усы свисали вниз, как у запорожца.
- П-зз-ольте, дражайший богатырь, выпить ваше здоровье.
Заикин нехотя поднялся и принял протянутый бокал. Полковник был ему неприятен, но долг вежливости повелевал быть любезным.
- А это что за господин? Будто мне знакомый?- бесцеремонно ткнул он пальцем в Куприна, сидевшего рядом с Заикиным.
- Позвольте представить: мой друг, писатель Куприн...
Полковник трезвел на глазах. Усы его негодующе приподнялись.
- Куприн? Автор "Поединка"? С этим господином, оболгавшим российское офицерство, я могу только драться на дуэли, а не пожимать ему руку. Да-с!
Рыхлая фигура его описала полукруг, плечи демонстративно развернулись, и полковник нетвердо зашагал на свое место, все еще шипя, как рассерженный гусь.
Заикин вскочил. За ним поднялись остальные, возмущенно галдя. Но Куприн жестом остановил их и сказал-спокойно, с легкой иронией:
- Видишь: книги писать, что летать - одинаково опасно. Лучше все ж рухнуть вниз с высоты, чем получить пулю от такого хлыща или ему подобных.
Вечер был испорчен. Беседа не клеилась, стала тягучей и вымученной. Посидев немного, они разошлись. Заикин отправился к себе, размышляя о случившемся. Прежде он думал, что ранят только газетные фельетоны. Теперь, выходило, что писательское сочинение, плод фантазии, вымысел, словом, вещь как будто бы совсем неправдоподобная и ни к кому конкретно не обращенная, есть тоже оружие. И оружие с точным прицелом, бьющее без промаха и, может быть, больнее, нежели газетная статейка. Все это с трудом укладывалось у него в сознании.
Эти мысли тотчас отступили в сторону, когда он вспомнил, что завтра полеты. Ощущение опасности, никогда не покидавшее его - человека редкого мужества - с того дня, когда он впервые уселся позади Анри Фармана, оттеснило все другое.
На трибунах было жидко: сообразительные одесситы заняли все подступы к полю - и без расходов, и как-то безопаснее.
Занкин хмуро расхаживал подле своего аэроплана. Пришлось тепло одеться: одесский ноябрь был едва ли мягче московского.
- Все в порядке, мсье Заикин,-доложил ему Жорж, как всегда серьезный в таких случаях, в отличие от Жана, не терявшего жизнерадостности даже в самые трудные минуты.
Все было действительно в порядке: погода, аппарат, настроение на трибунах. От охотников полетать с ним не было отбою. Еще вчера Куприн и Убейко взяли с него слово, что он берет их пассажирами. Прежде он обещал это молодому Навроцкому, за которого, вдобавок, ходатайствовал его отец, редактор "Одесского листка".
И вот место Навроцкого позади Заикина занимает Александр Иванович Куприн...
"Очень жаль, что меня о моем полете расспрашивало несколько сот человек, и мне скучно повторять это снова,- рассказывал впоследствии Куприн в очерке "Мой полет" на страницах "Синего журнала".- Конечно, в крушении аэроплана г.г. Пташниковых и в том, что мой бедный друг Заикин должен был опять возвратиться к борьбе, - виноват только я.
Год тому назад, во время полетов Катанео, Уточкина и других, Заикин зажегся мыслью, чтобы летать. В это время мы вместе с ним были на аэродроме. Со свойственной этим упрямым волжанам внезапной решительностью он сказал:
- Я тоже буду летать! Дернул меня черт сказать...
- Иван Михайлов, беру с вас слово, что первый, кого вы поднимете в воздух из пассажиров,-буду я!
И вот... в очень ненастную одесскую переменчивую погоду, Заикин делает два великолепных круга, потом еще три с половиной, достигая высоты около пятисот метров. Затем он берет с собой пассажиром молодого Навроцкого, сына издателя "Одесского листка", и делает с ним законченный круг, опускаясь в том же месте, где он начал полет. Несмотря на то, что на аэродроме почти что не было публики платной, однако из-за заборов все-таки глазело несколько десятков тысяч народа. Заикину устроили необыкновенно бурную и несомненно дружественную овацию.
Как раз он проходил мимо трибун и раскланивался с публикой, улыбаясь и благодаря ее приветственными, несколько цирковыми жестами. В это время, бог знает почему, я поднял руку кверху и помахал кистью руки...
Было очень холодно, и дул норд-вест. Для облегчения веса мне пришлось снять пальто и заменить его газетной бумагой, вроде манишки. Молодой Навроцкий, только что отлетавший, любезно предложил мне свою меховую шапку с наушниками. Кто-то пришпилил мне английскими булавками газетную манишку к жилету, кто-то завязал мне под подбородком наушники шапки, и мы пошли к аэроплану.
Садиться было довольно трудно. Нужно было не зацепить ногами за проволоки и не наступить на какие-то деревяшки. Механик указал мне маленький железный упор, в который я должен был упираться левой ногой. Правая нога моя должна была быть свободной. Таким образом, Заикин, сидевший впереди и немного ниже меня на таком же детском креслице, как и я, был обнят мною ногами...
Затем ощущение быстрого движения по земле- и страх!
Я чувствую, как аппарат, точно живой, поднимается на несколько метров над землей, и опять падает на землю и катится по ней и опять поднимается. Эти секунды были самые неприятные в моем случайном путешествии по воздуху. Наконец, Заикин, точно насилуя свою машину, заставляет ее подняться сразу вверх.
Встречный воздух поднимает нас, точно систему игрушечного змея. Мне кажется, что не мы двигаемся, а под нами бегут назад трибуны, каменные стены, зеленеющие поля, деревья, фабричные трубы.
Гляжу вниз-все кажется таким смешным и маленьким, точно в сказке. Страх уже пропал. Сознательно говорю, что помню, как мы повернули налево и еще и еще налево. Но тут-то вот и случилась наша трагическая катастрофа. Встречный ветер был раньше нам другом и помощником, но когда мы повернулись к нему спиной, то сказались наши, то есть мои и пилота, тринадцать пудов веса плюс пропеллер, плюс мотор "гном" в пятьдесят сил, плюс ветер, гнавший нас в спину.
Сначала я видел Заикина немножко ниже своей головы. Вдруг я увидел его голову почти у своих колен. Ни у меня, ни у него (как я потом узнал) не было ни на одну секунду ощущения страха - страх был раньше. С каким-то странным равнодушным любопытством я видел, что нас несет на еврейское кладбище, где было на тесном пространстве тысяч до трех народа.
Только впоследствии я узнал, что Заикин в эту критическую секунду сохранил полное хладнокровие. Он успел рассчитать, что лучше пожертвовать аэропланом и двумя людьми, чем произвести панику и, может быть, стать виновником гибели нескольких человеческих жизней. Он очень круто повернул влево... И затем я услышал только треск и увидел, как мой пилот упал на землю.
Я очень крепко держался за вертикальные деревянные столбы, но и меня быстро вышибло из сиденья, и я лег рядом с Заикиным.
Я скорее его поднялся на ноги и спросил:
- Что ты, старик, жив?
Вероятно, он был без сознания секунды три-четыре, потому что не сразу ответил на мой вопрос, но первые его слова были:
- Мотор цел?..
Сидя потом в буфете за чаем, Заикин плакал. Я старался его утешить, как мог, потому что все-таки я был виноват в этом несчастии. В тот же вечер решилась его судьба. Братья Пташниковы-миллионеры, хотевшие эксплуатировать удивительную дерзость этого безграмотного, но отважного, умного и горячего человека, перевели исковерканный "фарман" в гараж и запечатали его казенными печатями, и Заикин не мог войти в этот сарай хотя бы для того, чтобы поглядеть хоть издали на свое детище..."
Было какое-то знамение в том, что последний, роковой, полет Заикин совершил вместе с Куприным.
- Это божок нас упас, - без улыбки сказал Куприн.- Шутка ли, сверзиться с такой высоты и остаться целым. Хорошо, что я летел именно с тобой, а не с кем-нибудь другим. С другим я бы непременно убился. И мир потерял бы не только Льва Николаевича Толстого, но и Александра Ивановича Куприна в один день.
- А что с Толстым?- вскинул брови Заикин.
- Умер Лев Николаевич,-сказал Куприн, и глаза его увлажнились.- Солнце нашей литературы закатилось. Ты не знаешь, сколь удивителен и всемогущ был этот сухонький подвижный ведун. Я счастливый - видел его...
Куприн опустил голову и задумался. Он ясно представил себе весенний день, синие очертания гор, зеленоватое, какое-то умиротворенное море, плещущее у ног Ялты, белый пароход в гавани. И этот мир красок стал звонче, радостнее, человечнее оттого, что явился Толстой-его пророк, его Пимен, его судия и утешитель. Простой люд расступался перед этим сухоньким старцем, как перед истинным царем...
Куприн тряхнул головой, отгоняя воспоминания.
- В газетах нынче две сенсации - смерть Толстого и падение Заикина с Куприным,- повторил он.- Отселе я делаю вывод: Куприн больше не полетит и удержит Заикина на грешной сей земле. Хватит рисковать жизнью и летать на деревянной коробушке. У нас в России есть смельчаки, которые этому посвятили себя. А у тебя, друг мой, иное предназначение. Ты, можно сказать, эталон русской породы и пребывай "в этом качестве. Заикин-борец нужнее народу, чем Заикин-авиатор. А Пташниковым воздается сторицей за их подлость. Вон газеты от них камня на камне не оставили, ославили их. Увидишь, придут еще к тебе на поклон и деньги будут предлагать.
Куприн словно в воду глядел. Дядя Пташниковых явился бить челом: "потому как позор и разорение", сулил деньги, вернул заикинские закладную и расписки, кляня племянников и Травина, который втянул их в эту историю. "Отпиши газетам, что между нами - мир",- умолял он.
Иван Заикин вернулся в цирк. Но не оскудело богатырское племя крылатых. Поднялись в воздух самолеты русской конструкции и постройки. Незадолго перед последним полетом Заикина в Одессе состоялся первый южный съезд деятелей воздухоплавательного дела, организованный Одесским аэроклубом. К концу 1910 года клуб насчитывал уже 140 членов, и спустя некоторое время здесь открылась школа летчиков, начались регулярные полеты и перелеты на дальность. Спустя всего лишь год из клубной мастерской вышло около двадцати аэропланов.
Сергей Уточкин, друг Заикина, русский летчик номер два, еще долго восхищал современников своими смелыми полетами.
Судьба его сложилась, впрочем, трагично. В июле 1911 года он принимал участие в перелете Петербург-Москва. До Новгорода он шел первым. Затем из-за неполадок в моторе его "блерио" был вынужден совершить посадку. Отремонтировав мотор и самолет, Уточкин полетел дальше. Но несчастье не отпускало его: снова вынужденная посадка, закончившаяся переломами ноги, ключицы и тяжелыми ушибами.
Это была не только физическая, но и психическая травма. Уточкин заболел тяжелым нервным расстройством и был на грани помешательства. С легким сердцем его засадили в психиатрическую больницу. Там в 1916 году он и окончил свои дни, забытый вчерашними друзьями и почитателями.
А русская авиация продолжала стремительно набирать высоту.
Предыдущая глава | Следующая глава
На главную страницу
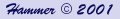
Использование любых материалов с этого сайта - только с моего письменного разрешения.